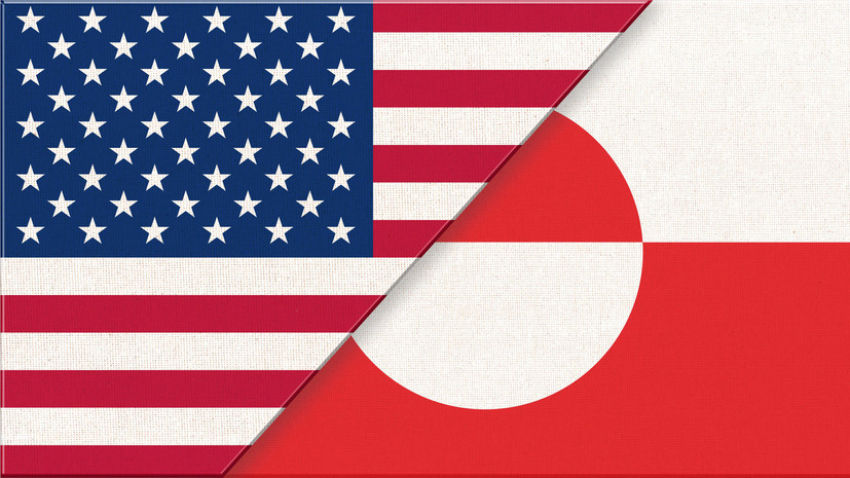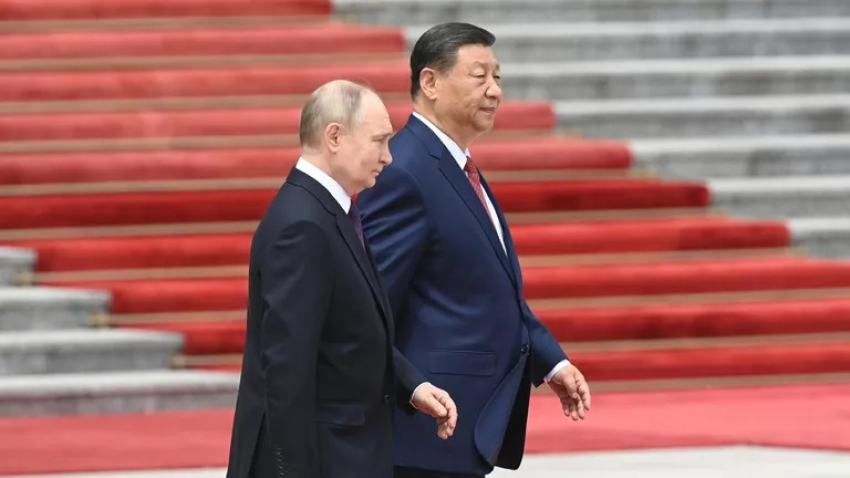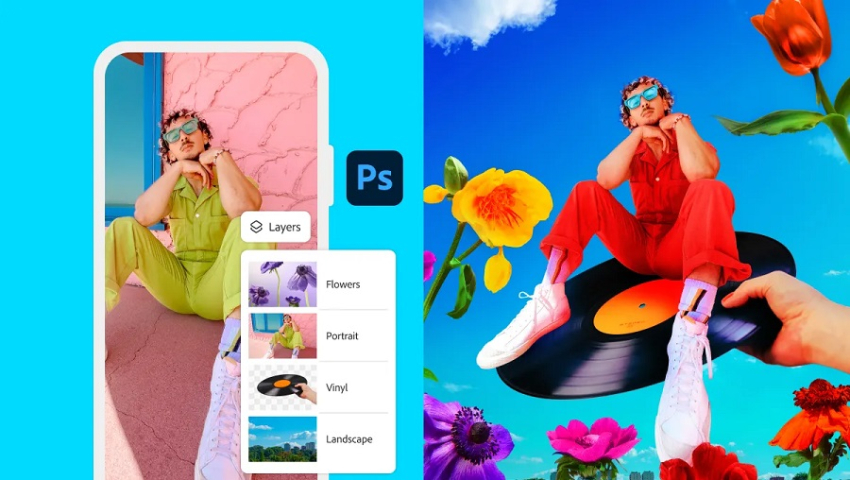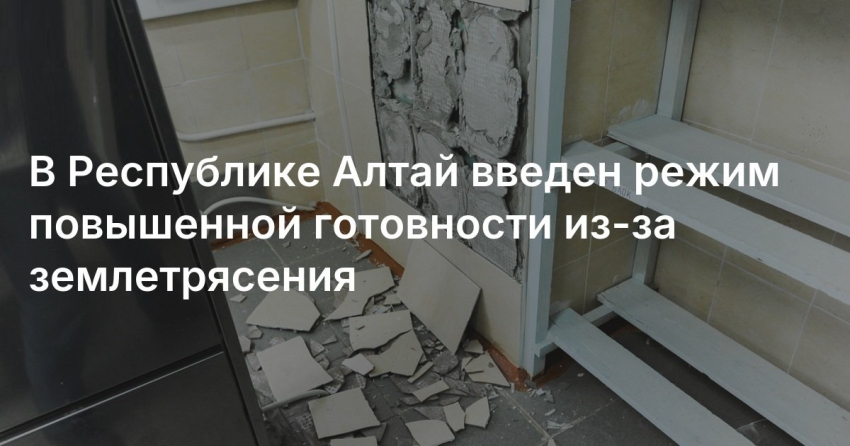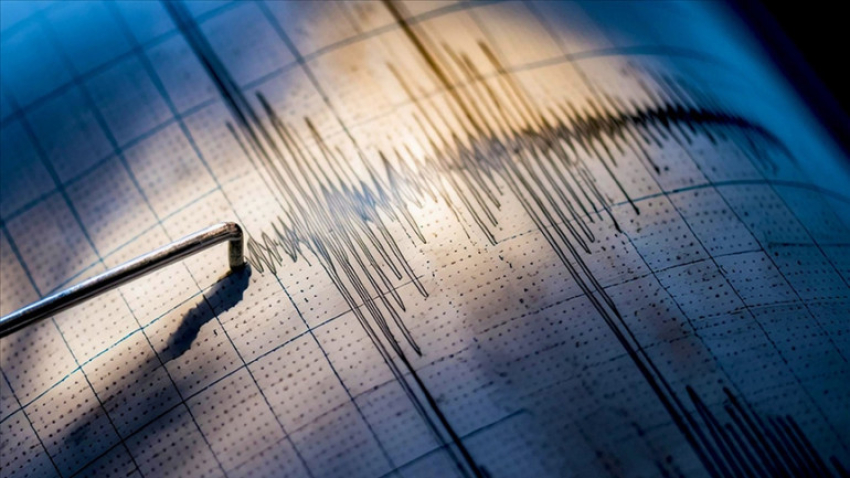¬Ђ–Э–∞—И –Ї–Њ–љ–µ—З–љ—Л–є –±–µ–љ–µ—Д–Є—Ж–Є–∞—А вАФ —Н—В–Њ –њ—А–Є—А–Њ–і–∞¬ї
–Ъ—В–Њ –Є –Ј–∞—З–µ–Љ –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–µ—В –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П–Љ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–Ј–µ—А–∞ –≤ –Љ–Є—А–µ
–Т 2024 –≥–Њ–і—Г –Ј–∞–≤–µ—А—И–Є–ї—Б—П —Д–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ—Л–є –њ—А–Њ–µ–Ї—В ¬Ђ–°–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ –Њ–Ј–µ—А–∞ –С–∞–є–Ї–∞–ї¬ї –≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞ ¬Ђ–≠–Ї–Њ–ї–Њ–≥–Є—П¬ї. –Я–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ—Л –љ–Њ–≤—Л–µ –Њ—З–Є—Б—В–љ—Л–µ —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П, –ї–Є–Ї–≤–Є–і–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л —Б–≤–∞–ї–Ї–Є, —А–µ–Ї—Г–ї—М—В–Є–≤–Є—А–Њ–≤–∞–љ–∞ —З–∞—Б—В—М –Ј–∞–≥—А—П–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ–є —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є. –Э–Њ –і–ї—П —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є—П —Н–Ї–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –љ–∞ –С–∞–є–Ї–∞–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ. –Ф–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А —Д–Њ–љ–і–∞ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–Є –њ—А–Є–Ї–ї–∞–і–љ—Л—Е —Н–Ї–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Њ–Ї –Є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–є ¬Ђ–Ю–Ј–µ—А–Њ –С–∞–є–Ї–∞–ї¬ї¬†–Р–љ–∞—Б—В–∞—Б–Є—П –¶–≤–µ—В–Ї–Њ–≤–∞¬†—А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞¬†¬Ђ–™¬ї –Њ —В–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –≤–ї–Є—П–µ—В –љ–∞ —Н–Ї–Њ–ї–Њ–≥–Є—О –Є –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –Њ—В—Б—В—А–µ–ї –±–∞–є–Ї–∞–ї—М—Б–Ї–Њ–є –љ–µ—А–њ—Л –љ–µ —Б–њ–∞—Б–µ—В –Є—Б—З–µ–Ј–∞—О—Й–µ–≥–Њ –Њ–Љ—Г–ї—П.
¬Ђ–Т–Љ–µ—И–Є–≤–∞—В—М—Б—П –≤ —А–µ–≥—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —З–Є—Б–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–µ—А–њ—Л –љ–µ –љ—Г–ґ–љ–Њ¬ї
вАФ –Т–∞—И —Д–Њ–љ–і –њ–Њ—П–≤–Є–ї—Б—П —Б—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–µ–і–∞–≤–љ–Њ, –Њ–љ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–µ—В—Б—П —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ–Љ —Н–Ї–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –љ–∞ –С–∞–є–Ї–∞–ї–µ, —Е–Њ—В—П –±–∞–Ј–Є—А—Г–µ—В—Б—П –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ. –Я–Њ—З–µ–Љ—Г –≤—Л –≤—Л–±—А–∞–ї–Є –С–∞–є–Ї–∞–ї? –Э–µ—Г–ґ–µ–ї–Є –≤ —В–∞–Ї–Њ–Љ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ –њ–Њ-–њ—А–µ–ґ–љ–µ–Љ—Г –љ–µ —Е–≤–∞—В–∞–µ—В –±–ї–∞–≥–Њ—В–≤–Њ—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є?
вАФ –Ф–Њ –љ–∞—Б –љ–∞ –С–∞–є–Ї–∞–ї–µ –љ–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ —Н–Ї–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–Њ–љ–і–∞. –Ф–∞–ґ–µ –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–µ –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–µ —Н–Ї–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Д–Њ–љ–і—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б–µ–є—З–∞—Б –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ—Л –љ–µ–ґ–µ–ї–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П–Љ–Є, —Г –љ–Є—Е –љ–µ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ –љ–∞ –С–∞–є–Ї–∞–ї–µ, –Њ–љ–Є –≤ —Н—В–Њ–Љ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–µ –љ–µ —А–µ–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤—Л–≤–∞–ї–Є —Б–≤–Њ–Є –њ—А–Њ–µ–Ї—В—Л –≤ –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є—П –±–Є–Њ—А–∞–Ј–љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Є—П. –Ь–љ–Њ–≥–Є–µ –љ–µ–Ї–Њ–Љ–Љ–µ—А—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Є –Ї–∞–Ї–Є–µ-—В–Њ —А–∞–Ј–Њ–≤—Л–µ –∞–Ї—Ж–Є–Є вАФ –≤–Њ–ї–Њ–љ—В–µ—А—Л –≤—Л–µ–Ј–ґ–∞–ї–Є —В—Г–і–∞, —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є –±–Њ–ї—М—И–Њ–µ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –њ–ї–∞—Б—В–Є–Ї–∞ –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥–∞—Е, –њ–Є—Б–∞–ї–Є –њ–µ—В–Є—Ж–Є–Є. –†–∞–Ј–љ—Л–µ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–µ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —Г—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–ї–Є —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є–Є, –Ї—В–Њ-—В–Њ –њ—А–Њ–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–ї —В—А–Њ–њ—Л, –Ї—В–Њ-—В–Њ –≤—Л—Б–∞–ґ–Є–≤–∞–ї –і–µ—А–µ–≤—М—П, –Ї—В–Њ-—В–Њ —Б–Њ–±–Є—А–∞–ї –≤–Њ–ї–Њ–љ—В–µ—А—Б–Ї–Є–µ –Њ—В—А—П–і—Л, —З—В–Њ–±—Л —Г–±–Є—А–∞—В—М –Љ—Г—Б–Њ—А. –Э–Њ –Ј–∞ —Н—В–Є–Љ –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –±—Л –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Њ –і–∞–ї—М—И–µ. –Э–µ –±—Л–ї–Њ —Д–Њ–љ–і–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –±—Л –∞–Ї–Ї—Г–Љ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–ї –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л, –Є–љ—В–µ–≥—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї –Љ–љ–µ–љ–Є—П —Н–Ї—Б–њ–µ—А—В–Њ–≤ –Є –і–Њ–љ–Њ—Б–Є–ї —Н—В–Њ –і–Њ –і–Њ–љ–Њ—А–Њ–≤, —З—В–Њ–±—Л —В–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є –њ–Њ–Љ–Њ—З—М.
–Э–∞—И —Д–Њ–љ–і –њ–Њ—П–≤–Є–ї—Б—П –Є–Ј –Є–і–µ–Є –±–Є–Ј–љ–µ—Б–Љ–µ–љ–∞ –Є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –і–µ—П—В–µ–ї—П –≠–і—Г–∞—А–і–∞ –Т–Њ–є—В–µ–љ–Ї–Њ —Б–і–µ–ї–∞—В—М —Б–Є—Б—В–µ–Љ–љ—Г—О —Н–Ї–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—О, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–Є—В –Ј–љ–∞–љ–Є—П –Є —А–µ—Б—Г—А—Б—Л –≤ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–∞—Е –С–∞–є–Ї–∞–ї–∞. –Х–≥–Њ –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ —Б—В–∞—А—В–µ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞–ї –°—В–µ–њ–∞–љ –°–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є—Ж—Л–љ, —Б—Л–љ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –°–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є—Ж—Л–љ–∞.
–≠—В–Є –і–≤–∞ –њ–Њ–њ–µ—З–Є—В–µ–ї—П –њ–Њ–ґ–µ—А—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –≤ —Д–Њ–љ–і –њ–Њ 1¬†–Љ–ї–љ —А—Г–±–ї–µ–є, —Б –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞—В—М –С–∞–є–Ї–∞–ї—Г,вАФ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –і–ї—П –љ–Є—Е –±—Л–ї–∞ –≤–∞–ґ–љ–∞. –Ф–ї—П –≠–і—Г–∞—А–і–∞ вАФ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –Њ–љ –Ї–Њ–≥–і–∞-—В–Њ —В–∞–Љ —Б–ї—Г–ґ–Є–ї, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –Є–Ј—Г—З–Є–ї –С–∞–є–Ї–∞–ї –Ї–∞–Ї —В—Г—А–Є—Б—В –≤–і–Њ–ї—М –Є –њ–Њ–њ–µ—А–µ–Ї –Є, –µ—Й–µ –±—Г–і—Г—З–Є –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л–Љ, –њ—А–Њ–љ–Є–Ї—Б—П –µ–≥–Њ –Ї—А–∞—Б–Њ—В–Њ–є –Є —Г–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О —Н–Ї–Њ—Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л. –Ф–ї—П –°—В–µ–њ–∞–љ–∞ вАФ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ —Н—В–Њ –Љ–µ—Б—В–Њ –≤–∞–ґ–љ–Њ –і–ї—П –µ–≥–Њ —Б–µ–Љ—М–Є, –µ–≥–Њ –Њ—В–µ—Ж –Ї–Њ–≥–і–∞-—В–Њ –њ–Є—Б–∞–ї —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л –љ–∞ –Р–љ–≥–∞—А–µ. –Т —Ж–µ–ї–Њ–Љ —Б–µ–Љ—М—П –°–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є—Ж—Л–љ—Л—Е –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–µ—В—Б—П –Љ–µ—Ж–µ–љ–∞—В—Б—В–≤–Њ–Љ, –Є –°—В–µ–њ–∞–љ —Б—З–Є—В–∞–µ—В, —З—В–Њ –µ—Б–ї–Є —Б–Њ—Б—А–µ–і–Њ—В–∞—З–Є–≤–∞—В—М—Б—П –љ–∞ –±–ї–∞–≥–Њ—В–≤–Њ—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –≤ —Н–Ї–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є, —В–Њ, –Ї–∞–Ї –Є –≤ –і—А—Г–≥–Є—Е —Б—Д–µ—А–∞—Е, –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –љ–Њ—Б–Є—В—М —А–µ–≥—Г–ї—П—А–љ—Л–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А, –Є–Љ–µ—В—М –Є–Ј–Љ–µ—А–Є–Љ—Л–є —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В –Є –≤–µ—Б—В–Є –Ї –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П–Љ.
–Т 2023-–Љ –≥–Њ–і–Њ–≤–Њ–є –±—О–і–ґ–µ—В —Д–Њ–љ–і–∞ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї 26¬†–Љ–ї–љ —А—Г–±., –Є–Ј –љ–Є—Е 12,7¬†–Љ–ї–љ вАФ –њ–Њ–ґ–µ—А—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П —З–ї–µ–љ–Њ–≤ –њ–Њ–њ–µ—З–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—В–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ–Њ–Ї—А—Л–≤–∞—О—В —А–∞–±–Њ—В—Г –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Л –Є –њ—А–Њ–µ–Ї—В—Л —Д–Њ–љ–і–∞. –°–µ–≥–Њ–і–љ—П —Д–Њ–љ–і —А–µ–≥—Г–ї—П—А–љ–Њ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞—О—В –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 200¬†—З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –Њ–±—К–µ–Љ –Є—Е –њ–Њ–ґ–µ—А—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —З—Г—В—М –Љ–µ–љ—М—И–µ 2¬†–Љ–ї–љ —А—Г–±. –≤ –≥–Њ–і.
вАФ –Я–Њ—З–µ–Љ—Г –Њ—Е—А–∞–љ–Њ–є —Н–Ї–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–Ј–µ—А–∞ –≤ –Љ–Є—А–µ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–µ—В—Б—П –љ–µ–Ї–Њ–Љ–Љ–µ—А—З–µ—Б–Ї–Є–є —Д–Њ–љ–і, –∞ –љ–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ, –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —Н—В–Њ –Њ–Ј–µ—А–Њ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Њ?
вАФ –Т —Н–Ї–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–≤–µ—Б—В–Ї–µ —Ж–µ–ї—Л–є —Б–њ–µ–Ї—В—А –≥–ї–Њ–±–∞–ї—М–љ—Л—Е –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ –≤ –њ–Њ–ї–µ –Ј—А–µ–љ–Є—П –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞. –Э–∞ –С–∞–є–Ї–∞–ї–µ —Н—В–Њ –Є —А–µ–Ї—Г–ї—М—В–Є–≤–∞—Ж–Є—П –Њ—В—Е–Њ–і–Њ–≤ —Ж–µ–ї–ї—О–ї–Њ–Ј–љ–Њ-–±—Г–Љ–∞–ґ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–±–Є–љ–∞—В–∞, –Є —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Њ—З–Є—Б—В–љ—Л—Е —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–є, –Є –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –±–Є–Њ—А–µ—Б—Г—А—Б–Њ–≤ –Њ–Ј–µ—А–∞ вАФ –Њ–љ–Є —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –њ—А–Є–Њ—А–Є—В–µ—В–љ—Л.
–Э–∞ –≤—Б–µ —Ж–µ–ї–Є –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ —Е–≤–∞—В–Є—В —А–µ—Б—Г—А—Б–Њ–≤ –Є –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П –≥–Њ—Б–Њ—А–≥–∞–љ–Њ–≤. –С–Є–Ј–љ–µ—Б –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ —Б–µ–є—З–∞—Б –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–∞–µ—В—Б—П –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ–Љ –≤ –њ–∞—А—В–љ–µ—А—Б—В–≤–Њ, –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ —З—В–Њ–±—Л —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ—Л –њ–Њ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є—О –±–Є–Њ—А–∞–Ј–љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Є—П –≤ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞—Е –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є—П, –≥–і–µ –Њ–љ –≤–µ–і–µ—В –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М. –Ь—Л –љ–µ –њ–Њ–і–Љ–µ–љ—П–µ–Љ —Б–Њ–±–Њ–є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ, —Н—В–Њ –Є –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–і–µ–ї–∞—В—М. –Э–Њ, –Ї–∞–Ї –ї—О–±–Њ–є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–є —Д–Њ–љ–і, –Љ—Л –Љ–Њ–ґ–µ–Љ –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞—В—М —А–µ—И–µ–љ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—В –≤—Л–є—В–Є –Є–Ј –Ї–∞–Ї–Є—Е-—В–Њ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–љ—Л—Е –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ. –Ю–љ–Є –µ—Б—В—М –≤ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є —Б—Д–µ—А–µ, –≤ —Н–Ї–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є. –Ш –≤ –Ї–Њ–љ—В–µ–Ї—Б—В–µ –Њ–Ј–µ—А–∞ –С–∞–є–Ї–∞–ї –Љ—Л –≤—Л–±—А–∞–ї–Є —В–∞–Ї–Є–µ –Ї–ї—О—З–µ–≤—Л–µ —Б—Д–µ—А—Л, –≥–і–µ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ –љ–µ —Е–≤–∞—В–∞–µ—В, –≥–і–µ –љ–µ—В —Ж–µ–ї–µ–≤–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Д–Є–љ–∞–љ—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –љ–Њ –µ—Б—В—М –Њ—Б—В—А—Л–є –Ј–∞–њ—А–Њ—Б –љ–∞ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї—Г —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –љ–∞—И–Є—Е –±–ї–∞–≥–Њ–њ–Њ–ї—Г—З–∞—В–µ–ї–µ–є.
–Т —А–∞–Љ–Ї–∞—Е —Д–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞ ¬Ђ–°–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ –Њ–Ј–µ—А–∞ –С–∞–є–Ї–∞–ї¬ї –≤ 2021 –≥–Њ–і—Г –Ј–∞–≤–µ—А—И–µ–љ–∞ –±–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —А–µ–Ї—Г–ї—М—В–Є–≤–∞—Ж–Є—П –Ј–µ–Љ–µ–ї—М –љ–∞ –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є 143¬†–≥–∞, –≥–і–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М –ї–Є–Ї–≤–Є–і–∞—Ж–Є—П –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–є –і–Њ–±—Л—З–Є —Г–≥–ї—П –љ–∞ –•–Њ–ї–±–Њ–ї—М–і–ґ–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Г–≥–Њ–ї—М–љ–Њ–Љ —А–∞–Ј—А–µ–Ј–µ. –Т 2022 –≥–Њ–і—Г –≤ –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є —Н–Ї–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ј–Њ–љ–µ –С–∞–є–Ї–∞–ї—М—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Є—А–Њ–і–љ–Њ–є —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –Я—А–Є–±–∞–є–Ї–∞–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–∞—А–Ї–∞ –ї–Є–Ї–≤–Є–і–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Њ 9¬†—Б–≤–∞–ї–Њ–Ї –Њ–±—Й–µ–є –њ–ї–Њ—Й–∞–і—М—О 28,89¬†–≥–∞, –∞ –≤ 2023 –≥–Њ–і—Г вАФ 17¬†–љ–µ—Б–∞–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –Љ–µ—Б—В —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –Њ—В—Е–Њ–і–Њ–≤ –љ–∞ –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є 26,28¬†–≥–∞. –Т 2023 –≥–Њ–і—Г –≤–≤–µ–і–µ–љ—Л –≤ —Н–Ї—Б–њ–ї—Г–∞—В–∞—Ж–Є—О –Ї–∞–љ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ-–Њ—З–Є—Б—В–љ—Л–µ —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –њ—А–∞–≤–Њ–≥–Њ –±–µ—А–µ–≥–∞ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Ш—А–Ї—Г—В—Б–Ї–∞ –Љ–Њ—Й–љ–Њ—Б—В—М—О 220¬†—В—Л—Б.¬†–Ї—Г–±.¬†–Љ. –≤ —Б—Г—В–Ї–Є. –Я—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ—Л —А–∞–±–Њ—В—Л –њ–Њ –њ–Њ–љ–Є–ґ–µ–љ–Є—О –љ–∞–і—И–ї–∞–Љ–Њ–≤—Л—Е –≤–Њ–і –≤ –Ї–∞—А—В–∞—Е-–љ–∞–Ї–Њ–њ–Є—В–µ–ї—П—Е –њ–Њ–ї–Є–≥–Њ–љ–Њ–≤ ¬Ђ–°–Њ–ї–Ј–∞–љ—Б–Ї–Є–є¬ї –Є ¬Ђ–С–∞–±—Е–Є–љ—Б–Ї–Є–є¬ї, –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–≤—И–Є—Е –С–∞–є–Ї–∞–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Ж–µ–ї–ї—О–ї–Њ–Ј–љ–Њ-–±—Г–Љ–∞–ґ–љ–Њ–Љ—Г –Ї–Њ–Љ–±–Є–љ–∞—В—Г: –≤ 2021 –≥–Њ–і—Г –≤ –Њ–±—К–µ–Љ–µ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ 40¬†—В—Л—Б.¬†–Ї—Г–±.¬†–Љ, –≤ 2022 –≥–Њ–і—Г вАФ –≤ –Њ–±—К–µ–Љ–µ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ 70¬†—В—Л—Б.¬†–Ї—Г–±.¬†–Љ.¬†–Я–Њ –і–∞–љ–љ—Л–Љ –Ь–Є–љ–њ—А–Є—А–Њ–і—Л, ¬Ђ–њ—А–Є–љ—П—В—Л–µ –Љ–µ—А—Л –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–Є –Є–Ј–±–µ–ґ–∞—В—М —Г–≥—А–Њ–Ј—Л –њ–µ—А–µ–ї–Є–≤–∞ –Ї–∞—А—В –Є –њ–Њ–њ–∞–і–∞–љ–Є—П –≥—А—П–Ј–љ–Њ–є –≤–Њ–і—Л –≤ –С–∞–є–Ї–∞–ї¬ї. –Т –Њ–±—Й–µ–є —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Ј–∞ –њ—П—В—М –ї–µ—В –љ–∞ 213,13¬†–≥–∞ —Б–љ–Є–ґ–µ–љ–∞ –њ–ї–Њ—Й–∞–і—М –±–∞–є–Ї–∞–ї—М—Б–Ї–Є—Е —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–є, –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥—И–Є—Е—Б—П –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–Љ—Г –Є —Н–Ї—Б—В—А–µ–Љ–∞–ї—М–љ–Њ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–Љ—Г –Ј–∞–≥—А—П–Ј–љ–µ–љ–Є—О. –° 2020 –њ–Њ 2024 –≥–Њ–і –µ–ґ–µ–≥–Њ–і–љ–Њ –≤ –Њ–Ј–µ—А–Њ –С–∞–є–Ї–∞–ї –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞–ї–Є—Б—М –ї–Є—З–Є–љ–Ї–Є –Њ–Љ—Г–ї—П –Є –Љ–Њ–ї–Њ–і–Є –Њ—Б–µ—В—А–∞: —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ 2024 –≥–Њ–і—Г –±—Л–ї–Њ –≤—Л–њ—Г—Й–µ–љ–Њ 405,5¬†–Љ–ї–љ¬†—И—В. –° 2019 –њ–Њ 2024 –≥–Њ–і –љ–∞ —А–µ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—О –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞ ¬Ђ–°–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ –Њ–Ј–µ—А–∞ –С–∞–є–Ї–∞–ї¬ї –Є–Ј —Д–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –±—О–і–ґ–µ—В–∞ –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–Њ 41,8¬†–Љ–ї—А–і —А—Г–±.
–Э–∞—И –Ї–Њ–љ–µ—З–љ—Л–є –±–µ–љ–µ—Д–Є—Ж–Є–∞—А вАФ —Н—В–Њ –њ—А–Є—А–Њ–і–∞. –°–ї–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –Ї–∞–Ї –Њ–љ–∞ –љ–∞–Љ –Њ—В–≤–µ—З–∞–µ—В, –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–∞ –ї–Є –Њ–љ–Є –≤—Б–µ–Љ–Є –љ–∞—И–Є–Љ–Є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П–Љ–Є, –љ–Њ –Љ—Л –Є—Й–µ–Љ —Б–≤–Њ–Є –Є–љ—Б—В—А—Г–Љ–µ–љ—В—Л –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ–±—Л —Н—В–Њ –Є–Ј–Љ–µ—А–Є—В—М. –Х—Б—В—М, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞—В–Є–Ї–∞, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ–∞—П —Б —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –±–Є–Њ—А–∞–Ј–љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Є—П. –Э–∞ –С–∞–є–Ї–∞–ї–µ –љ–µ –±—Л–ї–Њ —Д–Њ–љ–і–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –±—Л —Н—В–Є–Љ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П, —Е–Њ—В—П –Є–Ј 1200¬†–Њ–±–Є—В–∞—В–µ–ї–µ–є –Њ–Ј–µ—А–∞ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ¬†800 вАФ —Н–љ–і–µ–Љ–Є–Ї–Є, —В–Њ –µ—Б—В—М —В–µ –≤–Є–і—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –ґ–Є–≤—Г—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–∞–Љ –Є –љ–Є–≥–і–µ –±–Њ–ї—М—И–µ. –Ю–љ–Є –љ—Г–ґ–і–∞—О—В—Б—П –≤ –Ј–∞—Й–Є—В–µ –Є –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є–Є, —З—В–Њ–±—Л –љ–µ –Є—Б—З–µ–Ј–љ—Г—В—М —Б –ї–Є—Ж–∞ –Ч–µ–Љ–ї–Є. –Т –Љ–Є—А–µ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і—П—В –і–µ–≥—А–∞–і–∞—Ж–Є—П —Н–Ї–Њ—Б–Є—Б—В–µ–Љ, –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ –Ї–ї–Є–Љ–∞—В–∞, –Є —Н—В–Њ —Б–Є–ї—М–љ–Њ –≤–ї–Є—П–µ—В –љ–∞ –±–Є–Њ—А–∞–Ј–љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Є–µ.
–Э–∞—И–∞ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –≤ 2018 –≥–Њ–і—Г –≤–Ј—П–ї–∞ –њ–Њ–і –Њ–њ–µ–Ї—Г –±–∞–є–Ї–∞–ї—М—Б–Ї—Г—О –љ–µ—А–њ—Г. –Х—Б–ї–Є –њ–Њ–Љ–љ–Є—В–µ, —В–Њ–≥–і–∞ —И–ї–∞ —А–µ—З—М –Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ–Љ –≤–Њ–Ј–Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–Є –µ–µ –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В—Б—В—А–µ–ї–∞. –Ф–Њ —В–Њ–≥–Њ –Њ—В—Б—В—А–µ–ї –±—Л–ї –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Ј–∞–њ—А–µ—Й–µ–љ, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г –Ї–Њ—А–µ–љ–љ—Л—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ –Є —Г –љ–∞—Г—З–љ—Л—Е –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–Њ–≤ –±—Л–ї–Є –Ї–≤–Њ—В—Л –љ–∞ –≤—Л–ї–Њ–≤. –Э–Њ –≤ 2018-–Љ –њ–Њ—П–≤–Є–ї–∞—Б—М –Є–љ–Є—Ж–Є–∞—В–Є–≤–∞ –њ–Њ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—О –њ—А–∞–≤–Є–ї —А—Л–±–Њ–ї–Њ–≤—Б—В–≤–∞ –љ–∞ –С–∞–є–Ї–∞–ї–µ, –Є —Н—В–∞ –Є–љ–Є—Ж–Є–∞—В–Є–≤–∞ –≤–Ї–ї—О—З–∞–ї–∞ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–љ—П—В—М —А—П–і –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–Є–є –љ–∞ –Њ—В—Б—В—А–µ–ї –≤–Ј—А–Њ—Б–ї—Л—Е –Њ—Б–Њ–±–µ–є –љ–µ—А–њ—Л.
вАФ –Я–Њ—З–µ–Љ—Г –Њ–љ–∞ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–∞?
вАФ –С—Л–ї–∞ –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—П –Њ –њ—А–Є—А–Њ—Б—В–µ –њ–Њ–њ—Г–ї—П—Ж–Є–Є –љ–µ—А–њ—Л, –Є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Н–Ї—Б–њ–µ—А—В—Л –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Є, —З—В–Њ –µ–µ —З–Є—Б–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –љ—Г–ґ–љ–Њ —А–µ–≥—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞—В—М. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –°–Ь–Ш –њ–Є—Б–∞–ї–Є –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –љ–µ—А–њ–∞ –≤–Є–љ–Њ–≤–∞—В–∞ –≤ —Б–Њ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є–Є –≤ –С–∞–є–Ї–∞–ї–µ –њ–Њ–њ—Г–ї—П—Ж–Є–Є –Њ–Љ—Г–ї—П. –Я—А–∞–≤–і–∞, –љ–µ—А–њ–∞ –љ–µ –µ—Б—В –Њ–Љ—Г–ї—П, —В–Њ—З–љ–µ–µ, –µ—Б—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–Ј –±—А–∞–Ї–Њ–љ—М–µ—А—Б–Ї–Є—Е —Б–µ—В–µ–є, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ —В–∞–Ї –Њ–Љ—Г–ї—М –њ–ї–∞–≤–∞–µ—В —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ вАФ –Є —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –±—Л—Б—В—А–Њ. –Э–µ—А–њ–∞ –Њ—Е–Њ—В–Є—В—Б—П –љ–∞ –і—А—Г–≥—Г—О —А—Л–±—Г вАФ –љ–∞ –±—Л—З–Ї–∞ –Є –≥–Њ–ї–Њ–Љ—П–љ–Ї—Г.
–Ш –љ–∞—И —Д–Њ–љ–і –њ–Њ–њ—Л—В–∞–ї—Б—П —А–∞–Ј–Њ–±—А–∞—В—М—Б—П, –∞ –Ї–∞–Ї–Є–µ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –і–∞–љ–љ—Л–µ –µ—Б—В—М –Њ —З–Є—Б–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –±–∞–є–Ї–∞–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В—О–ї–µ–љ—П (–≤—В–Њ—А–Њ–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –±–∞–є–Ї–∞–ї—М—Б–Ї–Њ–є –љ–µ—А–њ—Л.вАФ¬†¬Ђ–™¬ї), –Њ –±–ї–∞–≥–Њ–њ–Њ–ї—Г—З–Є–Є –њ–Њ–њ—Г–ї—П—Ж–Є–Є –Є –Ї—В–Њ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–µ—В—Б—П –Љ–Њ–љ–Є—В–Њ—А–Є–љ–≥–Њ–Љ —Н—В–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞.
–Ш –≤—Л—П—Б–љ–Є–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ—Л –≤ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–∞—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –±—Л–ї–Є –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ—Л –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є—О –±–∞–є–Ї–∞–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В—О–ї–µ–љ—П, —Г–ґ–µ –љ–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є 20¬†–ї–µ—В –љ–Є–Ї–µ–Љ –љ–µ —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Є—А—Г—О—В—Б—П, —Б–Њ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—Г—З–љ—Л—Е —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї–Њ–≤.
–Ш –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Ш–љ—Б—В–Є—В—Г—В–Њ–Љ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ —Н–Ї–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –Є —Н–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є –†–Р–Э вАФ –∞ —Н—В–Њ –≤–µ–і—Г—Й–Є–є –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–µ—В—Б—П —А–∞–Ј–љ—Л–Љ–Є –і–Є–Ї–Є–Љ–Є –≤–Є–і–∞–Љ–Є, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П –Ї–∞—Б–њ–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В—О–ї–µ–љ—П,вАФ –Љ—Л —Б–Њ–Ј–і–∞–ї–Є –љ–∞—Г—З–љ–Њ-–Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї—Г—О –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г –њ–Њ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—О –±–ї–∞–≥–Њ–њ–Њ–ї—Г—З–Є—П –±–∞–є–Ї–∞–ї—М—Б–Ї–Њ–є –љ–µ—А–њ—Л. –Ь—Л —В–∞–Ї–ґ–µ —Б–Њ–±—А–∞–ї–Є –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –њ—Г–ї —Н–Ї—Б–њ–µ—А—В–љ—Л—Е –Љ–љ–µ–љ–Є–є, —А–µ—В—А–Њ—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤–љ—Л—Е –љ–∞—Г—З–љ—Л—Е –і–∞–љ–љ—Л—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–Є –љ–∞–Љ –∞—А–≥—Г–Љ–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ –≤–Љ–µ—И–Є–≤–∞—В—М—Б—П –≤ —А–µ–≥—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —З–Є—Б–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–µ—А–њ—Л –љ–µ –љ—Г–ґ–љ–Њ.
–°–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, —Н—В–Њ—В –њ—А–Њ–µ–Ї—В –Є–ї–ї—О—Б—В—А–Є—А—Г–µ—В –Љ–µ—В–Њ–і –љ–∞—И–µ–є —А–∞–±–Њ—В—Л. –Ґ–Њ –µ—Б—В—М –Љ—Л –љ–∞—З–∞–ї–Є –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В—М —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є–Є, –њ–Њ–ї—Г—З–∞—В—М –і–∞–љ–љ—Л–µ –Њ –±–ї–∞–≥–Њ–њ–Њ–ї—Г—З–Є–Є –њ–Њ–њ—Г–ї—П—Ж–Є–Є –Є –і–µ–ї–Є—В—М—Б—П –Є–Љ–Є —Б–Њ –≤—Б–µ–Љ–Є —Б—В–µ–є–Ї—Е–Њ–ї–і–µ—А–∞–Љ–Є (–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –ї–Є—Ж–∞–Љ–Є.вАФ¬†¬Ђ–™¬ї), –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—О—В —А–µ—И–µ–љ–Є—П –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –±–∞–є–Ї–∞–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В—О–ї–µ–љ—П. –Я–∞—А—Г –ї–µ—В –љ–∞–Ј–∞–і —Б–љ–Њ–≤–∞ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–∞ –Є–љ–Є—Ж–Є–∞—В–Є–≤–∞ –Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є —А–µ–≥—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –±–∞–є–Ї–∞–ї—М—Б–Ї—Г—О –љ–µ—А–њ—Г, —В–Њ–≥–і–∞ –≤–Є—Ж–µ-–њ—А–µ–Љ—М–µ—А–Њ–Љ –±—Л–ї–∞ –Т–Є–Ї—В–Њ—А–Є—П –Р–±—А–∞–Љ—З–µ–љ–Ї–Њ, –Њ–љ–∞ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї–∞ —А–∞–Ј–Њ–±—А–∞—В—М—Б—П –≤ —Н—В–Њ–Љ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–µ –µ—Й–µ —А–∞–Ј. –Ш –Љ—Л —Б–љ–Њ–≤–∞ –њ—А–Њ–≤–µ–ї–Є –Ї–Њ–љ—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є—О, —Б–Њ–±—А–∞–ї–Є –≤—Б–µ –љ–∞—Г—З–љ—Л–µ –і–∞–љ–љ—Л–µ –Є –љ–∞ –Є–Љ—П –≤–Є—Ж–µ-–њ—А–µ–Љ—М–µ—А–∞ –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї–Є –њ–Є—Б—М–Љ–∞ —Б –≤—Л–≤–Њ–і–Њ–Љ, —З—В–Њ –≤–Љ–µ—И–Є–≤–∞—В—М—Б—П –љ–µ –љ—Г–ґ–љ–Њ.
–Ь—Л –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–µ–Љ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—В—М—Б—П –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ–њ—Г–ї—П—Ж–Є–Є –љ–µ—А–њ—Л —Г–ґ–µ –±–Њ–ї–µ–µ –њ—П—В–Є –ї–µ—В, —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Є—А—Г–µ–Љ —Н—В—Г –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г –Є –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–µ–Љ –Ј–∞—Й–Є—В–Є—В—М —В—О–ї–µ–љ—П. –Э–Њ –љ–∞ –С–∞–є–Ї–∞–ї–µ –Ї—А–Њ–Љ–µ –љ–µ—А–њ—Л –Љ–љ–Њ–≥–Њ –і—А—Г–≥–Є—Е –≤–Є–і–Њ–≤ –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–∞–µ—В—Б—П —Г–≥—А–Њ–Ј–∞–Љ. –Э–µ—А–њ–∞ вАФ –љ–µ –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–Ї–љ–Є–ґ–љ—Л–є –≤–Є–і, –∞ –µ—Б—В—М —З–µ—А–љ–Њ—И–∞–њ–Њ—З–љ—Л–є —Б—Г—А–Њ–Ї, –і–Є–Ї–Є–є —Б–µ–≤–µ—А–љ—Л–є –ї–µ—Б–љ–Њ–є –Њ–ї–µ–љ—М –∞–ї—В–∞–µ-—Б–∞—П–љ—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–њ—Г–ї—П—Ж–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–∞ –≥—А–∞–љ–Є –Є—Б—З–µ–Ј–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П. –Т –љ–∞—И–µ–Љ –њ–µ—А–µ—З–љ–µ –Њ—З–µ–љ—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–і–Ї–Є—Е –≤–Є–і–Њ–≤ —А–∞—Б—В–µ–љ–Є–є –Є –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е, –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Љ—Л –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–µ–Љ. –Ь—Л –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–µ–Љ —Г—З–µ–љ—Л–Љ —Б–љ–∞—А—П–і–Є—В—М —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є–Є, –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞–µ–Љ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї—Г —Д–Њ—В–Њ–ї–Њ–≤—Г—И–µ–Ї, –Ј–∞–Ї—Г–њ–∞–µ–Љ –і—А—Г–≥–Њ–є –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–є –Є–љ–≤–µ–љ—В–∞—А—М –Є —Б—В–∞—А–∞–µ–Љ—Б—П –Њ–њ–ї–∞—З–Є–≤–∞—В—М –љ–∞—Г—З–љ—Г—О —А–∞–±–Њ—В—Г –њ–Њ –Є—В–Њ–≥–∞–Љ —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є–є. –Т–µ–і—М —Н—В–Є —Г—З–µ–љ—Л–µ вАФ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–µ –≥–µ—А–Њ–Є, –Њ–љ–Є –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –і–Њ–ї–≥–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –ґ–Є–≤—Г—В –≤ –њ–∞–ї–∞—В–Ї–∞—Е –њ–Њ–і –і–Њ–ґ–і–µ–Љ –Є —Б–љ–µ–≥–Њ–Љ –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –±–µ—Б–њ–ї–∞—В–љ–Њ, —З—В–Њ–±—Л —Б–њ–∞—Б—В–Є —В–Њ –Є–ї–Є –Є–љ–Њ–µ –ґ–Є–≤–Њ—В–љ–Њ–µ, –њ–Њ–љ—П—В—М –∞—А–µ–∞–ї –µ–≥–Њ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є—П.
вАФ –Я–Њ—З–µ–Љ—Г —В–∞–Ї –≤–∞–ґ–љ–Њ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є—В—М –±–∞–є–Ї–∞–ї—М—Б–Ї—Г—О –љ–µ—А–њ—Г –Є–ї–Є —Б—Г—А–Ї–∞?
вАФ –≠—В–Њ –≤–∞–ґ–љ–Њ –≤ –Ї–Њ–љ—В–µ–Ї—Б—В–µ –≤—Б–µ–є —Н–Ї–Њ—Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –С–∞–є–Ї–∞–ї–∞. –Э–µ—А–њ–∞ вАФ –≤–µ—А—И–Є–љ–∞ –њ–Є—Й–µ–≤–Њ–є —Ж–µ–њ–Є, –∞ —В–∞–Љ –Ї–∞–ґ–і—Л–є –њ–Њ–і–≤–Є–і –Є–≥—А–∞–µ—В —Б–≤–Њ—О –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Г—О —А–Њ–ї—М. –Ш—Б—З–µ–Ј–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і–≤–Є–і–∞ –≤–µ–і–µ—В –Ї –Є—Б—З–µ–Ј–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—О –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ. –Ш —В–∞–Ї –Љ—Л –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ–Љ, —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –і–µ–≥—А–∞–і–∞—Ж–Є—О –њ—А–Є—А–Њ–і—Л, –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Б–µ–є—З–∞—Б –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В. –£ –љ–∞—Б –љ–∞ –њ–ї–∞–љ–µ—В–µ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 1¬†–Љ–ї–љ –≤–Є–і–Њ–≤ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –љ–∞ –≥—А–∞–љ–Є –Є—Б—З–µ–Ј–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П.
–Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Љ—Л –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–µ–Љ –љ–∞—Г—З–љ—Л–Љ —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї–∞–Љ –Њ—Б–Њ–±–Њ –Њ—Е—А–∞–љ—П–µ–Љ—Л—Е –њ—А–Є—А–Њ–і–љ—Л—Е —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–є –≤ –Є—Е –љ–∞—Г—З–љ–Њ–є —А–∞–±–Њ—В–µ вАФ –Є–Ј—Г—З–∞—В—М —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ –≤–Є–і—Л –Є —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П—В—М –±–Є–Њ—А–∞–Ј–љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Є–µ.

 
вАФ –°—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –Љ–Њ–љ–Є—В–Њ—А–Є–љ–≥ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П –≤–Њ–і—Л –≤ –С–∞–є–Ї–∞–ї–µ?
вАФ –Х—Б—В—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞, –µ—Б—В—М –µ–і–Є–љ—Л–є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Љ–Њ–љ–Є—В–Њ—А–Є–љ–≥ –Њ–Ј–µ—А–∞ –С–∞–є–Ї–∞–ї, –Є –Њ–љ–Є –≤–∞–ґ–љ—Л. –Э–Њ –µ—Б—В—М –Є —В–∞–Ї–Є–µ –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ, –≤–≤–Є–і—Г –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–µ—А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –≤—Л–њ–∞–і–∞—О—В –Є–Ј –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞. –Т–Њ—В, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –і–Њ–ї–≥–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–є –Љ–Њ–љ–Є—В–Њ—А–Є–љ–≥ –С–∞–є–Ї–∞–ї–∞ ¬Ђ–Ґ–Њ—З–Ї–∞¬†вДЦ1¬ї. –≠—В–Њ —В–∞–Ї–∞—П –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞, –≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Э–Ш–Ш –±–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –Ш—А–Ї—Г—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–∞ –≤ –µ–ґ–µ–љ–µ–і–µ–ї—М–љ–Њ–Љ —А–µ–ґ–Є–Љ–µ –±–µ—А–µ—В –њ—А–Њ–±—Л —Д–Є—В–Њ- –Є –Ј–Њ–Њ–њ–ї–∞–љ–Ї—В–Њ–љ–∞ –Є–Ј –Њ–і–љ–Њ–є —В–Њ—З–Ї–Є, –љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –≤ –њ–µ–ї–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ј–Њ–љ–µ –Ѓ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –С–∞–є–Ї–∞–ї–∞. –Р–љ–∞–ї–Є–Ј —Н—В–Є—Е –њ—А–Њ–± –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –і–µ–ї–∞—В—М –≤—Л–≤–Њ–і—Л –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Њ–± –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–Є —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А—Л –≤–Њ–і—Л –≤ –Њ–Ј–µ—А–µ –С–∞–є–Ї–∞–ї, —З—В–Њ –≤–∞–ґ–љ–Њ —Б —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П –Ї–ї–Є–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–Њ–≤. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Љ—Л —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞–ї–Є —Д–Њ–љ–і, –љ–∞–Ї–∞–љ—Г–љ–µ 2016 –≥–Њ–і–∞, ¬Ђ–Ґ–Њ—З–Ї–∞¬†вДЦ1¬ї –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–ї–∞ –њ–Њ–ї—Г—З–∞—В—М —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ, –Љ–Њ–љ–Є—В–Њ—А–Є–љ–≥ –±—Л–ї –љ–∞ –≥—А–∞–љ–Є –Ј–∞–Ї—А—Л—В–Є—П, –∞ –µ–≥–Њ –і–∞–љ–љ—Л–µ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г—О—В—Б—П –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –љ–Њ –Є –≤–Њ –≤—Б–µ–Љ –Љ–Є—А–µ. –Р–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–µ –Љ–µ—В–µ–Њ—А–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞–µ—В –µ–ґ–µ–≥–Њ–і–љ–Њ –і–Њ–Ї–ї–∞–і –Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –Ї–ї–Є–Љ–∞—В–∞, –Є —В—Г–і–∞ –±–µ—А—Г—В—Б—П –і–∞–љ–љ—Л–µ –≤–Њ—В —Н—В–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–Є—В–Њ—А–Є–љ–≥–∞, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –Њ–Ј–µ—А–Њ –С–∞–є–Ї–∞–ї вАФ —Б–∞–Љ–Њ–µ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–µ –Њ–Ј–µ—А–Њ –љ–∞ –њ–ї–∞–љ–µ—В–µ, –Є —В–Њ, —З—В–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В —Б –љ–Є–Љ —Б —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П —Д–Є—В–Њ- –Є –Ј–Њ–Њ–њ–ї–∞–љ–Ї—В–Њ–љ–∞ –Є —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А—Л –≤–Њ–і—Л, –Њ—В—А–∞–ґ–∞–µ—В –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ –і–Є–љ–∞–Љ–Є–Ї—Г –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –Ї–ї–Є–Љ–∞—В–∞ –њ–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г –Љ–Є—А—Г.
–° 2017 –≥–Њ–і–∞ –Љ—Л —А–µ–≥—Г–ї—П—А–љ–Њ –≤—Л–і–µ–ї—П–µ–Љ –≥—А–∞–љ—В –љ–∞ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞ ¬Ђ–Ґ–Њ—З–Ї–∞¬†вДЦ1¬ї. –≠—В–Њ —Б—В–∞–ї–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–Љ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П —З–∞—Б—В–љ—Л–Љ –і–Њ–љ–Њ—А–∞–Љ –Є —Д–Њ–љ–і—Г ¬Ђ–Ь–Є—А –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ —В–µ–±—П¬ї, –ґ–µ—А—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ –љ–∞ –љ–∞—Г—З–љ—Л–µ –њ—А–Њ–µ–Ї—В—Л —Д–Њ–љ–і–∞.
вАФ –°–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–µ–љ–µ–≥ –њ–Њ—В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ–±—Л —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є—В—М ¬Ђ–Ґ–Њ—З–Ї—Г¬†вДЦ1¬ї?
вАФ 1,5¬†–Љ–ї–љ —А—Г–±–ї–µ–є –≤ –≥–Њ–і вАФ –Љ–Є–љ–Є–Љ–∞–ї—М–љ–∞—П —Б—Г–Љ–Љ–∞. –Х—Б–ї–Є —Б—А–∞–≤–љ–Є–≤–∞—В—М —Б –Љ–Є–ї–ї–Є–∞—А–і–љ—Л–Љ–Є —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞–Љ–Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤—Л–і–µ–ї—П—О—В—Б—П –љ–∞ —Н–Ї–Њ–ї–Њ–≥–Є—О, —Н—В–∞ —Б—Г–Љ–Љ–∞, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –љ–Є—З—В–Њ–ґ–љ–∞. –Э–Њ, —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–≤ –Љ–Њ–љ–Є—В–Њ—А–Є–љ–≥, –Љ—Л —Б–±–µ—А–µ–≥–ї–Є —В–µ –Ї–∞–і—А—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Љ–Њ–≥—Г—В —А–∞—Б–њ–Њ–Ј–љ–∞–≤–∞—В—М —А–∞–Ј–љ—Л–µ –њ–Њ–і–≤–Є–і—Л —Д–Є—В–Њ- –Є –Ј–Њ–Њ–њ–ї–∞–љ–Ї—В–Њ–љ–∞ вАФ —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Њ–љ–Є –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Љ–∞—А–Ї–µ—А —Н–Ї–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П –Њ–Ј–µ—А–∞, –∞ —Н—В–Њ —Г–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ–∞—П —Н–Ї—Б–њ–µ—А—В–Є–Ј–∞. –Ъ–∞–Ї —А–∞–Ј –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ—А–Њ–µ–Ї—В –±—Л–ї –љ–∞ –≥—А–∞–љ–Є –Ј–∞–Ї—А—Л—В–Є—П, —В–∞–Љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є, —З—В–Њ –Њ–њ—Л—В–љ—Л–µ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В—Л —Г–є–і—Г—В –љ–∞ –њ–µ–љ—Б–Є—О, –∞ –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л–µ —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї–Є –µ—Й–µ –љ–µ —Г–Љ–µ—О—В –≤—Б–µ–≥–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞—В—М.
–Я–Њ—В–Њ–Љ –Љ—Л —Г–ґ–µ –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–ї–Є –Ї —Н—В–Њ–Љ—Г –Љ–Њ–љ–Є—В–Њ—А–Є–љ–≥—Г –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є—О ¬Ђ–ѓ–љ–і–µ–Ї—Б¬†–Ъ–ї–∞—Г–і¬ї. –Ю–љ–Є —Е–Њ—В–µ–ї–Є –і–µ–ї–∞—В—М —З—В–Њ-—В–Њ –њ–Њ–ї–µ–Ј–љ–Њ–µ –і–ї—П —Н–Ї–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –≤ IT-—Б—Д–µ—А–µ. –Ш –Љ—Л —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є –Њ–± –Є—А–Ї—Г—В—Б–Ї–Њ–Љ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–µ, –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –љ—Г–ґ–љ–Њ –Ј–∞–Љ–µ–љ—П—В—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –Њ–±–ї–∞–і–∞—О—Й–µ–≥–Њ —Г–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Ј–љ–∞–љ–Є—П–Љ–Є, –Љ–∞—И–Є–љ–Њ–є, —З—В–Њ–±—Л –њ–Њ–і—Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞—В—М –≤—Б—О –њ—А–Њ—Ж–µ–і—Г—А—Г –Љ–Њ–љ–Є—В–Њ—А–Є–љ–≥–∞. –Ш –≤–Њ—В —Г–ґ–µ —В—А–Є –≥–Њ–і–∞ ¬Ђ–ѓ–љ–і–µ–Ї—Б¬†–Ъ–ї–∞—Г–і¬ї –Є Maritime¬†AI –±–µ—Б–њ–ї–∞—В–љ–Њ –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞—О—В –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В—Г —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞—В—М –љ–µ–є—А–Њ—Б–µ—В—М, –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ —З—В–Њ–±—Л —Г–ґ–µ –љ–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –∞ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Є–љ—В–µ–ї–ї–µ–Ї—В –Љ–Њ–≥ —А–∞—Б–њ–Њ–Ј–љ–∞–≤–∞—В—М –њ—А–Њ–±—Л –њ–Њ–і –Љ–Є–Ї—А–Њ—Б–Ї–Њ–њ–Њ–Љ, –∞ –≤—А–µ–Љ—П —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –≤—Л—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–∞–ї–Њ—Б—М –љ–∞ –љ–∞—Г—З–љ—Г—О —А–∞–±–Њ—В—Г. –Ґ–Њ –µ—Б—В—М, —Б –Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –Љ—Л —Б–±–µ—А–µ–≥–ї–Є —Г–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ—Л–є –Љ–Њ–љ–Є—В–Њ—А–Є–љ–≥ –і–ї—П –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П –≥–ї–Њ–±–∞–ї—М–љ—Л—Е –Ї–ї–Є–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–Њ–≤ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П —Н–Ї–Њ—Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –Ј–љ–∞—З–Є–Љ–Њ—Б—В–Є, –∞ —Б –і—А—Г–≥–Њ–є вАФ –≤–љ–µ–і—А–Є–ї–Є –љ–Њ–≤—Г—О IT-—В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—О –≤ –љ–∞—Г—З–љ—Г—О —А–∞–±–Њ—В—Г. –£—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Є –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞ —Б–Њ–±—А–∞–ї–Є –Є –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–ї–Є –≤ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ–Љ –і–Њ—Б—В—Г–њ–µ –і–∞–љ–љ—Л–µ вАФ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П —А–∞—З–Ї–Њ–≤ –Є–Ј-–њ–Њ–і –Љ–Є–Ї—А–Њ—Б–Ї–Њ–њ–∞ —Б —А–∞–Ј–Љ–µ—В–Ї–Њ–є вАФ –Є –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–є —Б–њ–Њ—Б–Њ–± –Њ—В—Б–ї–µ–ґ–Є–≤–∞–љ–Є—П –≤—Б–µ—Е –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–є, —В–Њ –µ—Б—В—М —Г—З–µ–љ—Л–µ –Є–Ј –і—А—Г–≥–Є—Е –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–Њ–≤ —В–Њ–ґ–µ —Б–Љ–Њ–≥—Г—В –±—А–∞—В—М –Є —Г —Б–µ–±—П –≤–љ–µ–і—А—П—В—М —Н—В–Њ—В –њ–Њ–і—Е–Њ–і. –Ш –Ї –љ–∞–Љ —Г–ґ–µ –Њ–±—А–∞—Й–∞–ї–Є—Б—М –Є–Ј –і—А—Г–≥–Є—Е —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є—Е –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–Њ–≤ –Є –Є–Ј –Ъ–∞–Ј–∞—Е—Б—В–∞–љ–∞, —З—В–Њ–±—Л –Љ—Л –њ–Њ–Љ–Њ–≥–ї–Є –Є–Љ –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П—В—М —В–∞–Ї—Г—О —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—О.
¬Ђ–Я–Є—Й–µ–≤—Л–µ –Њ—В—Е–Њ–і—Л –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–∞—О—В –і–Є–Ї–Є—Е –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е, –Є, –µ—Б–ї–Є –ґ–Є–≤–Њ—В–љ–Њ–µ –≤—Л—И–ї–Њ –Ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї—Г, –Њ–љ–Њ –±—Г–і–µ—В —Г–±–Є—В–Њ¬ї
вАФ –Т—Л —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г–ї–Є –±–Њ–ї—М—И–Њ–µ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –Љ—Г—Б–Њ—А–∞ –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥–∞—Е –С–∞–є–Ї–∞–ї–∞. –≠—В–∞ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞ –Ї–∞–Ї-—В–Њ —А–µ—И–∞–µ—В—Б—П?
вАФ –Ъ–Њ–≥–і–∞ —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞–ї—Б—П —Д–Њ–љ–і, —П –њ–Њ–Љ–љ—О, –±—Л–ї–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –∞–Ї—Ж–Є–є, —Б—Г–±–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Ї–Њ–Љ–Љ–µ—А—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є–Є –≤ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–µ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є—П –≤–Њ–і–Є–ї–Є —Б–≤–Њ–Є—Е —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –љ–∞ —Г–±–Њ—А–Ї–Є. –Э–Њ —Г –љ–∞—Б –±—Л–ї–∞ –Є –Њ–±—А–∞—В–љ–∞—П —Б–≤—П–Ј—М –Њ—В –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л—Е –њ–∞—А–Ї–Њ–≤: —Г—З–µ–љ—Л–µ —Б—З–Є—В–∞–ї–Є, —З—В–Њ —Н—В–Є —А–∞–Ј–Њ–≤—Л–µ –∞–Ї—Ж–Є–Є —Е–Њ—В—М –Є –њ–Њ–ї–µ–Ј–љ—Л, –љ–Њ –љ–µ —А–µ—И–∞—О—В –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л вАФ –љ–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є –≥–Њ–і –Љ—Г—Б–Њ—А —Б–љ–Њ–≤–∞ –њ–Њ—П–≤–ї—П–µ—В—Б—П. –Т 2019 –≥–Њ–і—Г –≤ —Б—В—А–∞–љ–µ –љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М ¬Ђ–Љ—Г—Б–Њ—А–љ–∞—П —А–µ—Д–Њ—А–Љ–∞¬ї, –Љ—Л —А–µ—И–Є–ї–Є —А–∞–Ј–Њ–±—А–∞—В—М—Б—П, –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –Њ–љ–∞ –љ–µ —А–∞–±–Њ—В–∞–µ—В –љ–∞ —Г–і–∞–ї–µ–љ–љ—Л—Е —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—П—Е –≤ –С—Г—А—П—В–Є–Є –Є –≤ –Ш—А–Ї—Г—В—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –Є –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –љ–µ–ї—М–Ј—П –њ—А–Њ—Б—В–Њ —В–∞–Ї –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –Ї–Њ–љ—В–µ–є–љ–µ—А –і–ї—П —А–∞–Ј–і–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б–±–Њ—А–∞ –Њ—В—Е–Њ–і–Њ–≤. –Х—Б—В—М –Њ—З–µ–љ—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –љ—О–∞–љ—Б–Њ–≤ –Є –ї–Њ–≥–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–µ–є –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–∞–Ї–Њ–њ–ї–µ–љ–Є—П –Є –≤—Л–≤–Њ–Ј–∞ –≤—В–Њ—А—Б—Л—А—М—П —Б –С–∞–є–Ї–∞–ї—М—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Є—А–Њ–і–љ–Њ–є —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є —Б –µ–µ –Њ—Б–Њ–±—Л–Љ —А–µ–ґ–Є–Љ–Њ–Љ –Њ—Е—А–∞–љ—Л, –Є –Љ—Л –≤—Б–µ –і–µ—В–∞–ї—М–љ–Њ –Є–Ј—Г—З–Є–ї–Є. –Я–Њ—В–Њ–Љ —Д–Њ–љ–і –Є–љ–Є—Ж–Є–Є—А–Њ–≤–∞–ї –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г ¬Ђ–Э–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–µ –њ–∞—А–Ї–Є –±–µ–Ј –Љ—Г—Б–Њ—А–∞¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –≤ –њ–µ—А–≤—Л–є –≥–Њ–і –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–∞ –њ—А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—В—Б–Ї–Є–є –≥—А–∞–љ—В. –Х–µ –Ј–∞–і–∞—З–µ–є –±—Л–ї–Њ –њ—А–µ–і–Њ—В–≤—А–∞—В–Є—В—М –њ–Њ–њ–∞–і–∞–љ–Є–µ –Њ—В—Е–Њ–і–Њ–≤ –љ–∞ –Њ—Б–Њ–±–Њ –Њ—Е—А–∞–љ—П–µ–Љ—Л–µ –њ—А–Є—А–Њ–і–љ—Л–µ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є, —З—В–Њ–±—Л –Љ—Л –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –≥–Њ—А–і–Є–ї–Є—Б—М —В–µ–Љ, —З—В–Њ —Г–±—А–∞–ї–Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ—Г—Б–Њ—А–∞ –≤ —Н—В–Њ–Љ –≥–Њ–і—Г, –∞ –≤ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–Љ вАФ –µ—Й–µ –±–Њ–ї—М—И–µ, –∞ —З—В–Њ–±—Л –Љ—Л –Љ–µ–љ—П–ї–Є –њ—А–Є–≤—Л—З–Ї–Є –Љ–µ—Б—В–љ—Л—Е –ґ–Є—В–µ–ї–µ–є –Є —В—Г—А–Є—Б—В–Њ–≤. –ѓ —З–∞—Б—В–Њ —Б–ї—Л—И–∞–ї–∞ –Њ—В —В–∞–Ї—Б–Є—Б—В–Њ–≤, –Ї–Њ–≥–і–∞ –µ—Е–∞–ї–∞ —В—Г–і–∞ –≤ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤–Ї—Г: ¬Ђ–Ф–∞-–і–∞, –љ–∞ –С–∞–є–Ї–∞–ї–µ —В–∞–Ї –Ї–ї–∞—Б—Б–љ–Њ, —П –Ї–∞–ґ–і—Л–є –≥–Њ–і –њ—А–Є–µ–Ј–ґ–∞—О, –≤—Б–µ —Г–±–Є—А–∞—О—В –≤–Њ–ї–Њ–љ—В–µ—А—Л, –љ–∞–Љ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –љ–∞–і–Њ –і–µ–ї–∞—В—М, —П –і–∞–ґ–µ –љ–µ –љ–∞–њ—А—П–≥–∞—О—Б—М, –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ —Г–≤–Њ–ґ—Г —Б –њ–Є–Ї–љ–Є–Ї–∞, –≤—Б–µ —А–∞–≤–љ–Њ –њ—А–Є–µ–і—Г—В –Є –≤—Б–µ —Г–±–µ—А—Г—В¬ї. –Т—Б–µ —Н—В–Њ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –Њ—З–µ–љ—М —Б–Є–ї—М–љ–Њ —А–µ–Ј–∞–ї–Њ —Б–ї—Г—Е.
–Х–ґ–µ–≥–Њ–і–љ–Њ –љ–∞ –С–∞–є–Ї–∞–ї –њ—А–Є–µ–Ј–ґ–∞–µ—В –і–Њ 2¬†–Љ–ї–љ —В—Г—А–Є—Б—В–Њ–≤. –Я–Њ—Б–ї–µ –љ–Є—Е –Њ—Б—В–∞—О—В—Б—П —Б–≤–∞–ї–Ї–Є –Љ—Г—Б–Њ—А–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤–ї–Є—П—О—В –љ–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –∞–Ї–≤–∞—В–Њ—А–Є–Є –Њ–Ј–µ—А–∞.
–Ь—Л –љ–∞—З–∞–ї–Є —Б –Ч–∞–±–∞–є–Ї–∞–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–∞—А–Ї–∞ вАФ –њ—А–Њ–≤–µ–ї–Є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ–Њ –Љ–Њ—А—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –Њ—В—Е–Њ–і–Њ–≤, –≤—Л—П—Б–љ–Є–ї–Є, –∞ —З—В–Њ —В–∞–Љ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –≤ –Ї–Њ–љ—В–µ–є–љ–µ—А–∞—Е –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П, –Ї–∞–Ї–Њ–≤ –њ–Њ—В–µ–љ—Ж–Є–∞–ї –і–ї—П –њ–µ—А–µ—А–∞–±–Њ—В–Ї–Є —Н—В–Њ–≥–Њ –≤—В–Њ—А—Б—Л—А—М—П, —З—В–Њ –ї—О–і–Є –њ—А–Є–љ–Њ—Б—П—В —Б —Б–Њ–±–Њ–є, —З—В–Њ –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В –≤ –≤–Є–і–µ —Б—В–µ–Ї–ї–∞, –њ–ї–∞—Б—В–Є–Ї–∞, –±—Г–Љ–∞–≥–Є. –Я–Є—Й–µ–≤—Л–µ –Њ—В—Е–Њ–і—Л –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–∞—О—В –і–Є–Ї–Є—Е –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е. –Ш –µ—Б–ї–Є –Ј–≤–µ—А—М –≤—Л—И–µ–ї –Ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї—Г, —В–Њ —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, –Њ–љ –±—Г–і–µ—В —Г–±–Є—В, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —Г–≥—А–Њ–Ј—Г. –Э–∞ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П—И–љ–Є–є –і–µ–љ—М –Љ—Л —Г–ґ–µ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є —В—А–µ—Е –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л—Е –њ–∞—А–Ї–Њ–≤ (–Ч–∞–±–∞–є–Ї–∞–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Я—А–Є–±–∞–є–Ї–∞–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–∞—А–Ї–∞ ¬Ђ–І–Є–Ї–Њ–є¬ї) –Ї–Њ–љ—В–µ–є–љ–µ—А—Л –і–ї—П —Б–±–Њ—А–∞ –≤—В–Њ—А—Б—Л—А—М—П, –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Ї–Є –і–ї—П –љ–∞–Ї–Њ–њ–ї–µ–љ–Є—П –Љ—Г—Б–Њ—А–∞ —Б —Г—З–µ—В–Њ–Љ —Б—В—А–Њ–≥–Є—Е —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞. –Ш –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –≤—Л—П–≤–Є–ї–Є —Б–Є—Б—В–µ–Љ–љ—Л–µ —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є: –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –љ–Є–Ї—В–Њ –Є–Ј –Њ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–Њ–≤ –љ–µ —Е–Њ—З–µ—В –≤—Л–≤–Њ–Ј–Є—В—М –Њ—В—В—Г–і–∞ –≤—В–Њ—А—Б—Л—А—М–µ. –Ь—Л –Њ–њ—А–Њ—Б–Є–ї–Є 50¬†–Њ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–Њ–≤, –≤—Л—П—Б–љ–Є–ї–Є, —З—В–Њ –Є–Љ –љ—Г–ґ–љ—Л –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–µ –Њ–±—К–µ–Љ—Л –≤—В–Њ—А—Б—Л—А—М—П, –і–ї—П –љ–Є—Е –µ—Е–∞—В—М –≤ –љ–∞—Ж–њ–∞—А–Ї–Є –С–∞–є–Ї–∞–ї–∞ –љ–µ—А–µ–љ—В–∞–±–µ–ї—М–љ–Њ, –∞ –Ј–љ–∞—З–Є—В, –љ—Г–ґ–љ–Њ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞—В—М –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Ї–Є –і–ї—П –љ–∞–Ї–Њ–њ–ї–µ–љ–Є—П –≤—В–Њ—А—Б—Л—А—М—П, –љ–Њ –Є –Ї—Г–њ–Є—В—М –њ—А–µ—Б—Б, —В–∞–Ї –њ–∞—А–Ї–Є —Б–Љ–Њ–≥—Г—В –љ–∞–Ї–∞–њ–ї–Є–≤–∞—В—М —Г —Б–µ–±—П –Њ—В—Е–Њ–і—Л –≤ –±–Њ–ї—М—И–Є—Е –Њ–±—К–µ–Љ–∞—Е, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ —Б–і–∞–≤–∞—В—М –Њ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞–Љ вАФ –Є —Н—В–Њ —Б—В–∞–љ–µ—В —А–µ–љ—В–∞–±–µ–ї—М–љ—Л–Љ. –Ґ–∞–Ї–ґ–µ –≤—Б–µ–≥–і–∞ —Б—В–Њ–Є—В –Њ—Б–Њ–±–љ—П–Ї–Њ–Љ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б: –∞ –Ї—В–Њ —Н—В–Є–Љ –±—Г–і–µ—В –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—В—М—Б—П? –Э—Г–ґ–љ—Л –ї—О–і–Є, –Ї–Њ–Љ–њ–µ–љ—Б–∞—Ж–Є—П —В—А—Г–і–Њ–Ј–∞—В—А–∞—В. –Ш —Н—В–Њ —В–Њ–ґ–µ —Б—В–∞–ї–Њ –љ–∞—И–µ–є –Ј–∞–±–Њ—В–Њ–є.
–Я–Њ—В–Њ–Љ –≤—Б–µ —Н—В–Є –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –Љ—Л –њ–µ—А–µ–і–∞–ї–Є –≤ –Р–≥–µ–љ—В—Б—В–≤–Њ —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є–љ–Є—Ж–Є–∞—В–Є–≤ –≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А—Б–∞ ¬Ђ–°–Є–ї—М–љ—Л–µ –Є–і–µ–Є –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є¬ї, –Є –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –Њ–љ–Є –ї–µ–≥–ї–Є –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤—Г –і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–є –Ї–∞—А—В—Л –њ–Њ —Г–Љ–µ–љ—М—И–µ–љ–Є—О –≤–Њ–Ј–і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –Њ—В—Е–Њ–і–Њ–≤ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –Є –њ–Њ—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є—П –љ–∞ –Њ—Б–Њ–±–Њ –Њ—Е—А–∞–љ—П–µ–Љ—Л–µ –њ—А–Є—А–Њ–і–љ—Л–µ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –±—Л–ї–∞ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–∞ –љ–∞ —Г—А–Њ–≤–љ–µ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞¬†–†–§.

 
вАФ –І—В–Њ –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є—В —Н—В–∞ –і–Њ—А–Њ–ґ–љ–∞—П –Ї–∞—А—В–∞?
вАФ –Ю–љ–∞ –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ—В –ї–Є–Ї–≤–Є–і–∞—Ж–Є—О –Є —А–µ–Ї—Г–ї—М—В–Є–≤–∞—Ж–Є—О –Њ–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В –љ–µ–≥–∞—В–Є–≤–љ–Њ–µ –≤–Њ–Ј–і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ –љ–∞ –Њ—Б–Њ–±–Њ –Њ—Е—А–∞–љ—П–µ–Љ—Л–µ –њ—А–Є—А–Њ–і–љ—Л–µ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є, –≤–Њ–ї–Њ–љ—В–µ—А—Б–Ї–Є–µ —Г–±–Њ—А–Ї–Є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –љ–∞ —В–∞–Ї–Є—Е —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—П—Е —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л —А–∞–Ј–і–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ї–Њ–њ–ї–µ–љ–Є—П –Њ—В—Е–Њ–і–Њ–≤.
вАФ –Ь–љ–Њ–≥–Њ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П —Б–≤–∞–ї–Њ–Ї –љ–∞ –Њ—Б–Њ–±–Њ –Њ—Е—А–∞–љ—П–µ–Љ—Л—Е –њ—А–Є—А–Њ–і–љ—Л—Е —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—П—Е?
вАФ –°–≤–∞–ї–Ї–Є –Ј–∞—Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л –љ–∞ 14¬†—В–∞–Ї–Є—Е —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—П—Е —Д–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –љ–∞ –Њ–±—Й–µ–є –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є –±–Њ–ї–µ–µ 120¬†–≥–∞, –∞ –µ—Й–µ –љ–∞ 31¬†—В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –њ–ї–Њ—Й–∞–і—М—О –±–Њ–ї–µ–µ 50¬†—В—Л—Б. –≥–∞ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ—Л –Њ–±—К–µ–Ї—В—Л, –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—Й–Є–µ –љ–µ–≥–∞—В–Є–≤–љ–Њ–µ –≤–Њ–Ј–і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ –љ–∞ –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й—Г—О —Б—А–µ–і—Г.
–Ю—Б–љ–Њ–≤–љ–∞—П –њ—А–Є—З–Є–љ–∞ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Б–≤–∞–ї–Њ–Ї вАФ –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є—Е, —Г–і–∞–ї–µ–љ–љ—Л—Е –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–љ—Л—Е –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–≤, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –≤ –≥—А–∞–љ–Є—Ж–∞—Е –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л—Е –Ј–∞–њ–Њ–≤–µ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ—Л—Е, –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –Є –Ї–Њ—Б–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Њ–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤, —З–∞—Б—В–Њ —Г–ґ–µ –љ–µ —А–∞–±–Њ—В–∞—О—Й–Є—Е, –љ–Њ –≤–ї–Є—П—О—Й–Є—Е –љ–∞ –њ—А–Є—А–Њ–і—Г.
–°–µ–≥–Њ–і–љ—П –Љ–љ–Њ–≥–Њ–µ –і–µ–ї–∞–µ—В—Б—П, –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ —З—В–Њ–±—Л —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—П –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є–ї–∞—Б—М, –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є –≥–Њ—Б—Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П –њ—А–Њ–≤–Њ–і—П—В —Н–Ї–Њ–ї–Њ–≥–Њ-–њ—А–Њ—Б–≤–µ—В–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї—Г—О —А–∞–±–Њ—В—Г —Б –Љ–µ—Б—В–љ—Л–Љ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Є —В—Г—А–Є—Б—В–∞–Љ–Є, —З—В–Њ–±—Л –љ–µ –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є—В—М —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –љ–Њ–≤—Л—Е —Б–≤–∞–ї–Њ–Ї. –Ь–µ–ґ–і—Г –Љ–µ—Б—В–љ—Л–Љ–Є –≤–ї–∞—Б—В—П–Љ–Є, —А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Њ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞–Љ–Є –Є –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—П–Љ–Є –њ–Њ—П–≤–Є–ї—Б—П –і–Є–∞–ї–Њ–≥, –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞—О—Й–Є–є —Б—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞—В—М —А–µ–љ—В–∞–±–µ–ї—М–љ—Г—О –Є —Н–Ї–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–љ—Г—О —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Г –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є—П —Б –Њ—В—Е–Њ–і–∞–Љ–Є –Є –њ–Њ–ї–µ–Ј–љ—Л–Љ–Є —Д—А–∞–Ї—Ж–Є—П–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ–µ—А–µ—А–∞–±–Њ—В–∞—В—М.
–Я–Њ –і–∞–љ–љ—Л–Љ –Ј–∞ 2023 –≥–Њ–і, –Є–Ј 172¬†–Њ—Б–Њ–±–Њ –Њ—Е—А–∞–љ—П–µ–Љ—Л—Е –њ—А–Є—А–Њ–і–љ—Л—Е —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–є —Д–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –≤ –Њ—А–≥–∞–љ—Л –≤–ї–∞—Б—В–Є, —А–∞–Ј–і–µ–ї—М–љ–Њ–µ –љ–∞–Ї–Њ–њ–ї–µ–љ–Є–µ –Њ—В—Е–Њ–і–Њ–≤ –Ј–∞—Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Њ –љ–∞ 30¬†—В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—П—Е –≤ 21¬†—Б—Г–±—К–µ–Ї—В–µ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є. –Ю—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ–Є –±–∞—А—М–µ—А–∞–Љ–Є –і–ї—П –≤–љ–µ–і—А–µ–љ–Є—П —А–∞–Ј–і–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б–±–Њ—А–∞ –Њ—В—Е–Њ–і–Њ–≤ –љ–∞ –Њ—Б–Њ–±–Њ –Њ—Е—А–∞–љ—П–µ–Љ—Л—Е –њ—А–Є—А–Њ–і–љ—Л—Е —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—П—Е —П–≤–ї—П—О—В—Б—П —Г–і–∞–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М —В–∞–Ї–Є—Е —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–є –Є –Є—Е –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є.
–Ь—Л –Є —Б–∞–Љ–Є –≤—Л–≤–µ–Ј–ї–Є –±–Њ–ї—М—И–µ 10¬†—В–Њ–љ–љ –≤—В–Њ—А—Б—Л—А—М—П —Б —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –С–∞–є–Ї–∞–ї–∞ –Ј–∞ —Н—В–Є –≥–Њ–і—Л.
вАФ –Т—Л —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є, —З—В–Њ –љ–∞–і–Њ –Љ–µ–љ—П—В—М –њ—А–Є–≤—Л—З–Ї–Є —В—Г—А–Є—Б—В–Њ–≤, –∞ –Ї–∞–Ї?
вАФ –Ь—Л –љ–∞—З–∞–ї–Є –≤–љ–µ–і—А—П—В—М –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–Є, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–µ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Б —В–µ–Љ, —З—В–Њ–±—Л –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤—Л–≤–∞—В—М –њ–Њ—Б–µ—В–Є—В–µ–ї–µ–є, –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–≤ –Є–љ—Д—А–∞—Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А—Г (–±–∞–Ї–Є –і–ї—П —А–∞–Ј–і–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б–±–Њ—А–∞ –Љ—Г—Б–Њ—А–∞). –Ь—Л –≤–љ–µ–і—А–Є–ї–Є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Г –Ј–µ–ї–µ–љ—Л—Е –Ї—Г–њ–Њ–љ–Њ–≤ –і–ї—П —В–µ—Е, –Ї—В–Њ —Б–і–∞–µ—В –≤—В–Њ—А—Б—Л—А—М–µ. –Ы—О–і–Є –њ–Њ–ї—Г—З–∞–ї–Є –Ї–∞–Ї—Г—О-—В–Њ —Г—Б–ї—Г–≥—Г –њ–∞—А–Ї–∞ –±–µ—Б–њ–ї–∞—В–љ–Њ вАФ –≤ –Њ–±–Љ–µ–љ –љ–∞ –Ї—Г–њ–Њ–љ. –Ш, –Њ—Ж–µ–љ–Є–≤–∞—П —А–µ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—О —Н—В–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞, –Љ—Л –≤–Є–і–µ–ї–Є, —З—В–Њ –Є –≥–Њ—Б—В–Є, –Є –і–∞–ґ–µ —Б–∞–Љ–Є —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї–Є —Б—В–∞–ї–Є –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М—Б—П —Н—В–Њ–є –Є–љ—Д—А–∞—Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–Њ–є. –Ъ–Њ–≥–і–∞ —Г —В–µ–±—П –µ—Б—В—М —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ —В–Њ—З–Ї–Є —Б–±–Њ—А–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Б—В–Њ—П—В –≤–Њ–ї–Њ–љ—В–µ—А—Л –Є –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В, –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј–і–µ–ї—П—В—М –Љ—Г—Б–Њ—А, –њ—А–Є–≤–Є–≤–∞—О—В —В–µ–±–µ —Н—В–Є –њ—А–Є–≤—Л—З–Ї–Є, —Н—В–Њ —А–∞–љ–Њ –Є–ї–Є –њ–Њ–Ј–і–љ–Њ –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В —А–∞–±–Њ—В–∞—В—М.

 
вАФ –Э–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, –љ–∞—З–Є–љ–∞—В—М –љ–∞–і–Њ —Б –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –і–µ—В–µ–є, —З—В–Њ–±—Л –Њ–љ–Є –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–ї–Є, –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –Є—Е –±—Г–і—Г—Й–µ–µ –Ј–∞–≤–Є—Б–Є—В –Њ—В —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –Њ–љ–Є —Г—В–Є–ї–Є–Ј–Є—А—Г—О—В –Љ—Г—Б–Њ—А?
вАФ –Р–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–∞. –Э—Г–ґ–љ–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤—Л–≤–∞—В—М –Є –і–µ—В–µ–є, –Є –≤–Ј—А–Њ—Б–ї—Л—Е. –Т–Њ –≤—Б–µ–Љ, —З—В–Њ –Љ—Л –і–µ–ї–∞–µ–Љ, –Љ—Л –Њ—А–Є–µ–љ—В–Є—А—Г–µ–Љ—Б—П –љ–∞ —И–Є—А–Њ–Ї—Г—О –∞—Г–і–Є—В–Њ—А–Є—О. –Я–Њ –Є—В–Њ–≥–∞–Љ –љ–∞—Г—З–љ—Л—Е —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є–є –Љ—Л —Б–і–µ–ї–∞–ї–Є –Њ–љ–ї–∞–є–љ-—Г—А–Њ–Ї –њ—А–Њ –±–∞–є–Ї–∞–ї—М—Б–Ї—Г—О –љ–µ—А–њ—Г, –Њ—В–Ї—А—Л–ї–Є –і–Њ—Б—В—Г–њ –Ї –љ–µ–Љ—Г –і–ї—П –≤—Б–µ—Е, –Њ–љ —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ –љ–∞ –њ–ї–∞—В—Д–Њ—А–Љ–µ Stepik. –Ь—Л –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤—Л–≤–∞–ї–Є –њ–Њ –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є—О —Б—А–µ–і–љ–Є—Е —И–Ї–Њ–ї –Њ—Д–ї–∞–є–љ-—Г—А–Њ–Ї–Є –Њ –і—А—Г–≥–Є—Е –љ–∞—И–Є—Е —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є—П—Е.
–Ь–Є—А–Њ–≤–∞—П –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–∞ –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В, —З—В–Њ –±–Њ—А–Њ—В—М—Б—П, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —Б –±—А–∞–Ї–Њ–љ—М–µ—А–∞–Љ–Є –љ—Г–ґ–љ–Њ, –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–і–µ–є—Б—В–≤—Г—П –љ–∞ –і–µ—В–µ–є —Н—В–Є—Е –±—А–∞–Ї–Њ–љ—М–µ—А–Њ–≤.
–Х—Б–ї–Є –і–µ—В–Є —Б–ї—Г—И–∞—О—В –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –њ—А–Њ —В–Њ, –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –≤–∞–ґ–љ–∞ –љ–µ—А–њ–∞, –Њ–љ–Є —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В —Н—В–Њ —А–Њ–і–Є—В–µ–ї—П–Љ, –Є –µ—Б—В—М —Б–ї—Г—З–∞–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є –Њ—В–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В—Б—П –Њ—В —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–∞ –Ј–∞—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞–љ–Є—П –і–µ–љ–µ–≥ –Є –Є–і—Г—В –і—А—Г–≥–Є–Љ –њ—Г—В–µ–Љ.
вАФ –Э—Г –±—А–∞–Ї–Њ–љ—М–µ—А—Б—В–≤–Њ –µ—Й–µ –Ј–∞–≤–Є—Б–Є—В –Њ—В —Г—А–Њ–≤–љ—П —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П —А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞.
вАФ –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –љ—Г–ґ–љ–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞—В—М —А–∞–±–Њ—З–Є–µ –Љ–µ—Б—В–∞, –Љ–µ–љ—П—В—М —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ-—Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї—Г. –Я–Њ–љ—П—В–љ–Њ, —З—В–Њ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–є —З–∞—Б—В–љ—Л–є —Д–∞–љ–і—А–∞–є–Ј–Є–љ–≥–Њ–≤—Л–є —Д–Њ–љ–і –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ–µ—А–µ–Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞—В—М –≥–Њ—А–Њ–і –С–∞–є–Ї–∞–ї—М—Б–Ї, –≥–і–µ –Ј–∞–Ї—А—Л—В —Ж–µ–ї–ї—О–ї–Њ–Ј–љ–Њ-–±—Г–Љ–∞–ґ–љ—Л–є –Ї–Њ–Љ–±–Є–љ–∞—В, –ї—О–і–Є –њ–Њ—В–µ—А—П–ї–Є —А–∞–±–Њ—З–Є–µ –Љ–µ—Б—В–∞ –Є –≥–і–µ —Г–ґ–µ –Њ—З–µ–љ—М –і–Њ–ї–≥–Њ –њ—Л—В–∞—О—В—Б—П —Б–Њ–Ј–і–∞—В—М –Ї–∞–Ї–Є–µ-—В–Њ —В–Њ—З–Ї–Є —А–Њ—Б—В–∞.
–Х—Б–ї–Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –њ—А–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ, —В–Њ –Љ—Л –Њ—В–Ї—А—Л–ї–Є –С–∞–є–Ї–∞–ї—М—Б–Ї—Г—О –Ј–∞–њ–Њ–≤–µ–і–љ—Г—О —И–Ї–Њ–ї—Г вАФ —Н—В–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Є–љ–Ї–ї—О–Ј–Є–≤–љ–Њ–µ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–Њ –љ–∞ –≤—К–µ–Ј–і–µ –≤ –Ч–∞–±–∞–є–Ї–∞–ї—М—Б–Ї–Є–є –љ–∞—Ж–њ–∞—А–Ї. –Ґ–∞–Љ —Б–µ–є—З–∞—Б –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –і–ї—П –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ–њ—Л—В–Њ–≤ –њ–Њ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—О —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ –≤–Њ–і—Л, –Є –і–ї—П –њ—А–µ—Б—Б–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤—В–Њ—А—Б—Л—А—М—П, –Є –і–ї—П –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є—П –≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Б–ї–µ–і–∞. –Т—Б–µ —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Њ –≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е –њ—А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥—А–∞–љ—В–∞.

 
вАФ –Т–Њ–Ї—А—Г–≥ –С–∞–є–Ї–∞–ї–∞ —З–∞—Б—В–Њ –≥–Њ—А—П—В –ї–µ—Б–∞, –≤–∞—И —Д–Њ–љ–і —З—В–Њ-—В–Њ –і–µ–ї–∞–µ—В –і–ї—П –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б–≥–Њ—А–µ–≤—И–µ–≥–Њ –ї–µ—Б–∞?
вАФ –£ –љ–∞—Б –±—Л–ї –≥—А–∞–љ—В –љ–∞ –њ—А–µ–і–Њ—В–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–ґ–∞—А–Њ–≤ –≤ –Ч–∞–±–∞–є–Ї–∞–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –њ–∞—А–Ї–µ, –≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е –≥—А–∞–љ—В–∞ –Љ—Л –Њ–±—Г—З–∞–ї–Є –Є–љ—Б–њ–µ–Ї—В–Њ—А–Њ–≤ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –ї—Г—З—И–Є–Љ –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–∞–Љ –њ–Њ –њ—А–µ–і–Њ—В–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є—О –њ–Њ–ґ–∞—А–Њ–≤. –Ґ–∞–Ї–ґ–µ –Љ—Л –Ј–∞–Ї—Г–њ–∞–ї–Є –Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ, –Ї–≤–∞–і—А–Њ–Ї–Њ–њ—В–µ—А—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—В –≤–µ—Б—В–Є –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є–µ –Ј–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–µ–є, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ —Г —А–µ–≥–Є–Њ–љ–Њ–≤ –љ–∞ —Н—В–Њ –љ–µ —Е–≤–∞—В–∞–µ—В —Б—А–µ–і—Б—В–≤. –£ –љ–∞—Б –µ—Б—В—М –і—А—Г–≥–Є–µ –њ—А–Њ–µ–Ї—В—Л –њ–Њ –ї–µ—Б–Њ–≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—О вАФ –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Љ—Л –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ–Љ –Ј–∞–њ—А–Њ—Б—Л –Њ—В –ї–µ—Б–љ–Є—З–µ—Б—В–≤, –≥–і–µ –≤—Л–≥–Њ—А–µ–ї –ї–µ—Б –Є –≥–і–µ –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –ї–µ—Б–Њ–≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Ј–∞—В—А—Г–і–љ–µ–љ–Њ, –Є –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–µ–Љ —В–∞–Љ —Б–∞–ґ–∞—В—М –њ–Њ—А–Њ—Б–ї—М. –Я–Њ—В–Њ–Љ —В—А–Є –≥–Њ–і–∞ —Б–ї–µ–і–Є–Љ –Ј–∞ –њ—А–Є–ґ–Є–≤–∞–µ–Љ–Њ—Б—В—М—О —Б–∞–ґ–µ–љ—Ж–µ–≤. –≠—В–Њ –љ–µ —Г–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ–∞—П —А–∞–±–Њ—В–∞, –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –≤—Л—Б–∞–ґ–Є–≤–∞—О—В –ї–µ—Б, –њ—А–Њ—Б—В–Њ –≤ –љ–∞—И–µ–Љ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–µ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є—П —В–∞–Ї–Њ–є –Ј–∞–њ—А–Њ—Б —В–Њ–ґ–µ –µ—Б—В—М. –Ю—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ —В–∞–Љ, –≥–і–µ —Б–Ї—Г–і–љ—Л–µ –њ–µ—Б—З–∞–љ—Л–µ –њ–Њ—З–≤—Л –Є–ї–Є –љ–∞ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞—Е –≤–Њ –≤–њ–∞–і–Є–љ–∞—Е –≤ –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ–Є–Є –≥–Њ—А–љ—Л—Е —Е—А–µ–±—В–Њ–≤, –≥–і–µ –ї–µ—Б –љ–µ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї—Б—П –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ–ґ–∞—А–∞ —Б–њ—Г—Б—В—П –і–µ—Б—П—В—М –ї–µ—В.
вАФ –Ъ–∞–Ї –≤—Л –і—Г–Љ–∞–µ—В–µ, –µ—Б–ї–Є –љ–µ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—В—М—Б—П —Н–Ї–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –С–∞–є–Ї–∞–ї—Г, –Њ–Ј–µ—А–Њ –њ–Њ–≥–Є–±–љ–µ—В? –Ь–љ–Њ–≥–Є–µ —Н–Ї–Њ–∞–Ї—В–Є–≤–Є—Б—В—Л –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В, —З—В–Њ –Њ–љ–Њ —Г–ґ–µ —Б–µ–є—З–∞—Б –≥–Є–±–љ–µ—В –Є–Ј-–Ј–∞ –Ј–∞–≥—А—П–Ј–љ–µ–љ–Є–є.
вАФ –≠—В–Њ—В –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –љ–∞–Љ –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –Ј–∞–і–∞—О—В —А–∞–Ј–љ—Л–µ –ї—О–і–Є: –≥–і–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –∞ –≥–і–µ –С–∞–є–Ї–∞–ї, –Њ–Ј–µ—А–Њ –љ–∞—Б –≤—Б–µ—Е –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–µ—В, –Ј–∞—З–µ–Љ –µ–Љ—Г –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞—В—М?
–ѓ —В–Њ–ґ–µ –љ–µ —Б–Ї–ї–Њ–љ–љ–∞ –і—А–∞–Љ–∞—В–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞—В—М —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—О, –Љ—Л –Њ—З–µ–љ—М –љ–µ –ї—О–±–Є–Љ –Ї—А–Є–Ї–Є –њ—А–Њ —В–Њ, —З—В–Њ –С–∞–є–Ї–∞–ї –њ–Њ–≥–Є–±–∞–µ—В. –С–∞–є–Ї–∞–ї –љ–µ –њ–Њ–≥–Є–±–∞–µ—В. –≠—В–Њ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ—З–µ–љ—М –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–µ –Њ–Ј–µ—А–Њ, –Њ–љ–Њ —Б–∞–Љ–Њ–Њ—З–Є—Й–∞–µ—В—Б—П –њ–Њ-–њ—А–µ–ґ–љ–µ–Љ—Г, –≤ –љ–µ–Љ –µ—Б—В—М –≤ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ–Љ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–µ –њ–ї–∞–љ–Ї—В–Њ–љ, –Љ—Л —Н—В–Њ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –Љ–Њ–љ–Є—В–Њ—А–Є–Љ. –Э–Њ –µ—Б—В—М –њ—А–Є–±—А–µ–ґ–љ–Њ–µ –Ј–∞–≥—А—П–Ј–љ–µ–љ–Є–µ, –µ—Б—В—М –≥–ї–Њ–±–∞–ї—М–љ—Л–µ —А–Є—Б–Ї–Є –∞–љ—В—А–Њ–њ–Њ–≥–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–∞ вАФ –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Ј–∞—В—П–љ—Г–≤—И–Є–є—Б—П –≤–Њ–њ—А–Њ—Б —Б —А–µ–Ї—Г–ї—М—В–Є–≤–∞—Ж–Є–µ–є –Њ—В—Е–Њ–і–Њ–≤ –С–∞–є–Ї–∞–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Ж–µ–ї–ї—О–ї–Њ–Ј–љ–Њ-–±—Г–Љ–∞–ґ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–±–Є–љ–∞—В–∞. –Ъ–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є –љ–µ–ї—М–Ј—П –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є—В—М –њ–Њ–њ–∞–і–∞–љ–Є—П –љ–∞–Ї–Њ–њ–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Њ—В—Е–Њ–і–Њ–≤ –≤ –Њ–Ј–µ—А–Њ вАФ —Н—В–Њ –њ—А–Є–≤–µ–і–µ—В –Ї —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ–Њ–є —Н–Ї–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–∞—В–∞—Б—В—А–Њ—Д–µ. –†–Є—Б–Ї–Є –≤ —Н–Ї–Њ—Б–Є—Б—В–µ–Љ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—В –≤—Б–µ–≥–і–∞.
–Т —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —В–Њ —З—В–Њ –С–∞–є–Ї–∞–ї –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ –љ–∞—Б –≤—Б–µ—Е –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–µ—В, —Н—В–Њ –љ–µ –Ј–љ–∞—З–Є—В, —З—В–Њ –Љ—Л –љ–µ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л —Б–і–µ–ї–∞—В—М –њ–Њ—Б–Є–ї—М–љ—Л–є –≤–Ї–ї–∞–і –љ–∞—И–µ–≥–Њ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—П –≤ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ –±–ї–∞–≥–Њ–њ–Њ–ї—Г—З–Є—П –µ–≥–Њ —Н–Ї–Њ—Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л.
–С–∞–є–Ї–∞–ї —В–µ—Б–љ–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ —Б –°–µ–ї–µ–љ–≥–Њ–є, –Є –°–µ–ї–µ–љ–≥–∞ –љ–µ—Б–µ—В –≤ –љ–µ–≥–Њ –Њ—З–µ–љ—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ –≥—А—П–Ј–Є. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –≤–∞–ґ–љ–Њ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—В—М, –Ї–∞–Ї–Є–µ –Њ—З–Є—Б—В–љ—Л–µ —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П —Б—В–Њ—П—В —А—П–і–Њ–Љ, –Є, –µ—Б–ї–Є –Њ–љ–Є –љ–µ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ —Б–њ—А–∞–≤–ї—П—О—В—Б—П, –Љ—Л —Д–Њ—А–Љ–Є—А—Г–µ–Љ –Є –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї—П–µ–Љ –≤ –≥–Њ—Б–Њ—А–≥–∞–љ—Л —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ї —Н—В–Є–Љ –Њ—З–Є—Б—В–љ—Л–Љ —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П–Љ.
–°–∞–Љ–Њ–µ —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ–µ –≤ –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–Є—А–Њ–і–Њ–Њ—Е—А–∞–љ–љ—Л—Е —Д–Њ–љ–і–Њ–≤ вАФ –њ–Њ–љ—П—В—М, –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –ї–Є –Љ—Л –і–µ–ї–∞–µ–Љ –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ–±—Л –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є—В—М —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—О. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Љ—Л —Б—В–∞—А–∞–µ–Љ—Б—П –љ–∞–є—В–Є –≤—Л—Е–Њ–і –њ–Њ —В–µ–Љ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–µ —А–µ—И–µ–љ—Л, —Б—В—А–µ–Љ–Є–Љ—Б—П –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞—В—М —В–µ—Е —Г—З–µ–љ—Л—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г—В –Є –љ–µ –Є–Љ–µ—О—В —Б–µ–є—З–∞—Б –і—А—Г–≥–Є—Е —А–µ—Б—Г—А—Б–Њ–≤ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—В—М—Б—П –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є–µ–Љ —Н–љ–і–µ–Љ–Є—З–љ—Л—Е, —А–µ–і–Ї–Є—Е –Є –Є—Б—З–µ–Ј–∞—О—Й–Є—Е –≤–Є–і–Њ–≤ —А–∞—Б—В–µ–љ–Є–є –Є –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е, —Б—В–∞—А–∞–µ–Љ—Б—П –Њ—Ж–µ–љ–Є–≤–∞—В—М —Б–≤–Њ—О —А–∞–±–Њ—В—Г —Б —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П —Н–Ї–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Н—Д—Д–µ–Ї—В–Њ–≤. –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, —Н—В–Њ –Ї–∞–њ–ї—П –≤ –Љ–Њ—А–µ, –µ—Б–ї–Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –њ—А–Њ –≤—Б—О —Н–Ї–Њ—Б–Є—Б—В–µ–Љ—Г –љ–∞—И–µ–є –њ–ї–∞–љ–µ—В—Л, –њ—А–Њ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ –≤–Њ–і–љ—Л—Е —А–µ—Б—Г—А—Б–Њ–≤ –Є –і–∞–ґ–µ –њ—А–Њ –≥–ї–Њ–±–∞–ї—М–љ–Њ–µ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ –Њ–Ј–µ—А–∞ –С–∞–є–Ї–∞–ї. –Э–Њ –µ—Б–ї–Є –±—А–∞—В—М –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ—Л—Е –±–ї–∞–≥–Њ–њ–Њ–ї—Г—З–∞—В–µ–ї–µ–є, —В–Њ —З—В–Њ-—В–Њ –љ–∞–Љ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М. –Ь—Л —Б–Љ–Њ–≥–ї–Є –≤–љ–µ—Б—В–Є –≤–Ї–ї–∞–і –≤ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–њ—Г–ї—П—Ж–Є–є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≤–Є–і–Њ–≤ —А–µ–і–Ї–Є—Е –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е, –Љ—Л —Б–њ–∞—Б–ї–Є –і–Њ–ї–≥–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–є –Љ–Њ–љ–Є—В–Њ—А–Є–љ–≥ –С–∞–є–Ї–∞–ї–∞, –Љ—Л –≤—Л–≤–µ–Ј–ї–Є —В–Њ–љ–љ—Л –≤—В–Њ—А—Б—Л—А—М—П —Б —Н—В–Њ–є —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є, –Є —Н—В–Є –Њ—В—Е–Њ–і—Л, –љ–µ –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є–≤—И–Є–µ—Б—П –≤ –Љ—Г—Б–Њ—А, —Б–µ–є—З–∞—Б –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞—О—В—Б—П —В—Г–і–∞ –≤ –≤–Є–і–µ —Б—Г–≤–µ–љ–Є—А–Њ–≤.
Latest from Russian Mirror
- –ѓ—В–∞–≥–∞–љ –≤ —Б–њ–Є–љ—Г: –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –≤ –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Р–Ј–Є–Є –њ—А–Њ–≤–∞–ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –њ—А–Њ–µ–Ї—В ¬Ђ—В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞¬ї
- –І—В–Њ –≤ –Є–Љ–µ–љ–Є —В–≤–Њ–µ–Љ: –Ї–Њ—А–µ–є—Б–Ї–Є–µ –Љ–∞—И–Є–љ—Л –≤–µ—А–љ—Г–ї–Є—Б—М –≤ –†–Њ—Б—Б–Є—О –Є–љ–Ї–Њ–≥–љ–Є—В–Њ
- –Ъ–∞–Ї –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—М –µ–і–Є–љ–Њ–µ –њ–Њ—Б–Њ–±–Є–µ –≤ 2025 –≥–Њ–і—Г. –Ш–љ—Д–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Ї–∞
- –Я—Г—В–Є–љ –њ–Њ–Ј–і—А–∞–≤–Є–ї —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ–∞—А–∞–і–∞ –љ–∞ –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–є –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є —Б 80-–ї–µ—В–Є–µ–Љ –Я–Њ–±–µ–і—Л –≤ –Т–Ю–Т
- 80-–ї–µ—В–Є–µ –Я–Њ–±–µ–і—Л: –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ –Њ 9 –Ь–∞—П - —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–Њ–ї–≥–Њ–ґ–і–∞–љ–љ–Њ–Љ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–µ –≥–Њ–і–∞
- –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–ї–∞—Б—М –≤–Њ–є–љ–∞: 80 –ї–µ—В –љ–∞–Ј–∞–і –°–°–°–† –њ–Њ–±–µ–і–Є–ї –љ–∞—Ж–Є–Ј–Љ –≤ –Х–≤—А–Њ–њ–µ
- –Т–ї–∞—Б—В–Є –Ы–∞—В–≤–Є–Є –≤—Б–ї–µ–і –Ј–∞ –Ы–Є—В–≤–Њ–є –Ј–∞–њ—А–µ—В–Є–ї–Є –њ–µ—А–µ–ї–µ—В –Т—Г—З–Є—З–∞ –≤ –†–Њ—Б—Б–Є—О
- –Т –С–∞—А–љ–∞—Г–ї–µ –Ј–∞–і–µ—А–ґ–∞–ї–Є –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ—Ж–∞ –њ—А–Є –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–µ –њ–Њ–і–ґ–µ—З—М –Ї–∞—Д–µ–і—А–∞–ї—М–љ—Л–є —Б–Њ–±–Њ—А